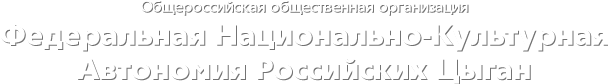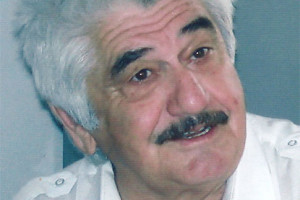Цыганка Лиза Богданова — 24.10.2009
Помнится тот день зимы 1942 года, когда дневальный крикнул в пролет лестницы, что меня вызывают. Я увидел рядом с часовым старую женщину, похожую на цыганку. Она была закутана в какое-то тряпье.

- Слышала вчера у вас музыку, выступали артисты, — волнуясь, сказала женщина.
- Это наша самодеятельность.
- А я вот артистка… не слышали, Богданова Лиза?
Я с недоверием оглядел ее. Трудно было представить себе, что это немощное существо имело отношение к сцене.
- Что же вы хотите, товарищ Богданова? — спросил я. Вопрос был, в сущности, лишним — было совершенно ясно, что она голодна и пришла для того, чтобы ее накормили. Но тут один я был бессилен.
- Хотела к вам поступить…
- Здесь воинская часть, казарма. То, что вы слышали, была репетиция участниц самодеятельности, артистов тут нет.
Мои объяснения не укладывались у нее в голове. Она кивала головой и продолжала твердить свое:
- Я — артистка.
- Вам сколько лет, товарищ Богданова?
- Двадцать.
- Двадцать?
Я был потрясен, отыскивая в этом истощенном до крайности лице, в этой старчески сгорбленной фигуре хотя бы движение или взгляд, которые бы говорили о молодости. Из дальнейшего разговора я узнал, что Лиза замужем. Муж в армии, а своего грудного ребенка ей не удалось сохранить. Детский трупик лежал в кроватке, и… дальше она ничего не помнит…
Очнулась, как потом выяснилось, в покойницкой. Отсюда перенесли в отделение к врачу, которая выхаживала ее, делясь своим скудным пайком, пока сама не слегла. Вот уже два дня у Лизы не было во рту ни крошки.
Я вынул из кармана кусочек хлеба, мой НЗ. Она проглотила его, почти не жуя. И я стал ломать голову, как ей помочь.
- Возьмите меня… я буду выступать… О… вы увидите, как я танцую… Хотите, сейчас… — и она начала стаскивать с себя что-то, но я остановил ее:
- Какие тут танцы, Лиза, оставьте…
Она испугалась, что ее не возьмут, и стала уверять, что будет выполнять все, что ей прикажут.
- Но, Лиза, военная служба, да еще в осажденном городе, требует сил, дисциплины, выдержки… Справитесь ли вы? Откапывать людей из-под развалин, работать ломом, лопатой? Стоять ночь в карауле, подбирать раненых под обстрелом?
Она не дала мне продолжить:
- Что же мне?.. Погибать?
Ну что ж… идти к военкому? Вхожу и не знаю, с чего начать. Сам понимаю, что неработоспособных на военную службу не берут, а оттолкнуть ее не могу.
Военком, товарищ Бенчин, самый высокий человек в батальоне и такой худой, что шинель болталась на нем, как на вешалке, не сразу понял мою несколько сбивчивую речь.
- Что за цыганка, откуда цыганка?
Короче, привел я Лизу к нему, и с той минуты ее затерянность, одиночество и голод навалились на нас обоих, мы почувствовали ответственность за ее судьбу, за ее жизнь.
Заручившись согласием командира батальона, повел я Лизу в столовую, а оттуда в медсанроту, куда ее решили зачислить.
- Артистка? — с ужасом воскликнул командирроты. — Вот кого мне не хватало! Пляшет, говорите? А кирпичи таскать? А носилки с ранеными под огнем? Что вы с военкомом придумали?
Он яростно противился, но чувствовалось, что бушует он только «по должности».
Медленно, медленно возвращались к Лизе силы, и вместе с силами разгоралось стремление показать, на что она способна.
Приближался день ответственного концерта, вся программа которого строилась на местном материале: отмечались самые дисциплинированные бойцы, а в сатирических куплетах критиковались провинившиеся. Попутно шли эстрадные номера. Аккомпанировала тогда самая маленькая по росту Женя Словак. Как ни мучилась старшина, подобрать ватник и что-нибудь на голову для Жени было невозможно. В ватнике она тонула, в любом головном уборе напоминала гномика под зонтиком. Орудовать ломом девушке было не под силу, и лопата, выше ее головы, не очень-то слушалась.
Но как только Женя садилась за рояль, ей не было равных. Талант, унаследованный от отца-музыканта, покорял и восхищал слушателей. Музыке она не училась, но играла и по нотам, и по слуху. Её коньком были цыганские таборные песни и романсы, которые певал отец, до войны выступавший на эстраде.
В часы, когда ее взвод нес очередное дежурство, Женя была незаменима: все бойцы сидят с полной выкладкой, по первому приказу готовы ринуться в самое пекло. Нервы напряжены до предела. И вот тут-то своего рода «тревогоотводом» оказалась Женя. Как есть, в ватнике, не снимая противогаза, лишь приставив саперную лопату к роялю, Женя усаживалась на стул, предварительно положив на сиденье несколько толстых книг, и начинала петь. Заказы сыпались со всех сторон, и Женя пела, пела не переставая. Вернее, до первых слов по радио: «Район подвергается обстрелу!»
Когда рядом появилась Лиза, обе они, как две половинки яблока, составили единое целое. На репетиции, с первых же тактов аккомпанемента, Лиза почувствовала себя в своей сфере.
И вот концерт самодеятельности четвертого батальона. Зал набит до отказа. Иногда слышится смех, иногда аплодисменты.
Наступила очередь Лизы. При первом ее появлении в костюме цыганки, взятом из костюмерной Кировского театра, зрители зааплодировали — они увидели воспетый в литературе образ таборной цыганки-красавицы. Не верилось, что это та самая высохшая, со шрамом на щеке Лиза, которую мы знали. Эта Лиза была гибкой, стройной, страстной, зовущей.
Таборная пляска начиналась с медленного выхода, полного тоски и стремления к свободе и счастью. Больше всего поражали глаза цыганки — огромные, глубокие, огненные. Темп танца постепенно убыстрялся, ритмы нарастали, менялись. Казалось, на сцене бушевал вихрь, ураган. Каждый из нас в течение этих мгновений воочию видел табор, и шатры, и костер, и ожившую Земфиру «между колесами телег, полузавешенных коврами».
Вдруг, в какую-то долю секунды, порыв, — и жизнь сломалась, танцовщица упала, оборвалась музыка. Замерла и Женя, склонившись за роялем.
Как в полусне, с остановившимся взглядом, выходила Лиза на вызовы, механически кланяясь в ответ на аплодисменты. О каком повторении танца могла идти речь? За кулисами она свалилась на табуретку и просидела до конца концерта.
Праздник кончился, послышались назначения и наряды — на вышки, к складам, в караул, к дровам, на проверку дежурств по району, на кухню. Командир роты, где служила Лиза, тоже горячо аплодировал ей.
- Да, ничего не скажешь, талант, — обратился он ко мне.
Я попросил не посылать ее сегодня дежурить на внешний пост. На улице мороз, она была разгорячена и обессилена.
Наутро оказалось, что Лиза все же стояла в карауле у склада. Правда, винить было некого — в отделении, где служила Лиза, все остальные бойцы уже находились на постах или только что сутки отдежурили.
Лизу положили в изолятор, потом в госпиталь — с крупозным воспалением легких.
Пока она болела, у нас произошло важное событие. Приказом генерала Е. С. Лагуткина наиболее способные участники самодеятельности из разных батальонов были соединены в одну унитарную роту, которой отвели пустовавшее здание на Неве по соседству с Мраморным дворцом.
После госпиталя Лиза явилась еле держась на ногах. А у нас рота уже укомплектована. Только генерал мог дать приказ о ее зачислении к нам. И приказ был подписан. Идем с ней по комнатам. Все места заняты. Решаю в большой комнате поставить еще одну койку, хотя это и вызывает колючие взгляды в сторону Лизы. В интересах самой Лизы не ссорить ее с окружающими, и, скрепя сердце, ставим ей койку у дверей — время покажет.
Ансамблю предстояло выступить в Филармонии, и мы знали, что в зале будет все командование МПВО и руководители города. Все усиленно готовились к этому ответственному концерту.
За музыкальную сторону концерта я был совершенно спокоен. В нашем подразделении служили замечательные концертмейстеры — опытнейшая музыкантша С. Курс — умелая наставница солистов — и молодая, но мастер своего дела, пианистка Маша Карандашева.
Перед самым концертом за кулисы пришла инструктор политотдела. Она впервые увидела Лизу в броском костюме с монистами, серьгами — всеми атрибутами своего жанра.
- Это что же? Цыганщина? А вы согласовали? — обратилась она ко мне, подняв брови и наморщив лоб.
На душе у меня заскребли кошки, но, твердо помня, как любили таборные песни и пляски Пушкин и Лев Толстой, как восторгались ими, я успокоил себя. Нет, зрители не обвинят нас в дурном вкусе. И вот концерт.
С успехом прочитали отрывок из «Ленинградской поэмы» Ольги Берггольц и стихотворение «Сын артиллериста» К. Симонова Нина Парфенова, тепло принимали наших вокалисток Нину Голенковскую, Тоню Байкову, Нину Савельеву, Лиду Хузе. Задорно и вместе с тем проникновенно поведала о Васе Теркине Зина Козлова. Ловя каждый звук, прослушал зал новую песню В. П. Соловьева-Седого «Соловьи» в исполнении хора под руководством Н. Н. Куклина. И вот на сцене Лиза Богданова.
Древний, подлинно народный танец девушки, никогда не учившейся хореографии, но танцующей с трех лет и черпающей вдохновение в своей душе, в родной цыганской музыке и в тысяче устремленных на нее восторженных глаз, — все это было незабываемо. Зрители были ошеломлены, потрясены и растроганы.
Возвращаемся в казарму. Лизу ведут под руки, гладят, целуют. На лице у каждой, кто с ней живет в одной комнате, написано — она наша! Не отдадим никому! Ее койку переносят в самый хороший, самый теплый угол. Она получает немудреные подарки. К чести Лизы надо сказать, что слава ее не испортила, она осталась такою же скромной, как была.
Послесловие. О том, как сложилась жизнь Лизы после войны, рассказала Ольга Степановна Деметер-Чарская. Лиза Марцинкевич (она выступала под этой, девичьей, фамилией, унаследованной от предков – польских цыган) разошлась с первым мужем и вышла замуж повторно. У нее родились четыре дочки. Брак оказался неудачным – муж поднимал на нее руку. И в конце концов они расстались. Все дочери унаследовали от мамы творческие способности – пели, танцевали. Вместе с мамой они работали в ансамбле у О.С. Деметер-Чарской и ее мужа А.В. Дулькевича. Лиза много лет болела – сказывались последствия воспаления легких, полученного во время войны. Умерла она совсем недавно. Все дочери «цыганки Лизы», артистки из блокадного Ленинграда, живы и здравствуют.