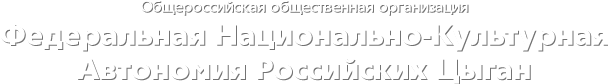Лев Черенков. Времена и люди — 25.10.2009
Я родился в Западно-Сибирском крае (что позже назывался Новосибирской, а теперь Кемеровской областью) в 1936 году в семье горного инженера.

Отец, Черенков Николай Васильевич, происходил из семьи русских подмосковных крестьян. Он смог получить высшее образование только благодаря социальным переменам в обществе, то есть благодаря установлению советской власти. Очевидно, только благодаря тем же обстоятельствам он мог жениться на моей матери.
Мать, Музовская Ольга Алексеевна, происходила из семьи врача.
Её дед – и, соответственно, мой прадед – Александр Рутковский из польских цыган-ломжиняков в 70-е годы 19-го века из окрестностей городка Ломжи в Северо-Восточной Польше переселился в Юго-Западную Литву в Лоздейский уезд Сувалкской губернии, где приобрёл корчму и заезжий двор и женился на местной оседлой литовской цыганке-вдове по фамилии Томашевич. По не известным мне причинам он сменил фамилию на Музовский. Прадед был богатым человеком, входил в уездную «элиту» и старался аккультурироваться и не очень отличаться от местной польско-литовской шляхты. Именно поэтому он попытался дать приличное образование всем своим детям.
Мой дед, Музовский Алексей Александрович, с подросткового возраста очень увлекался медициной – очевидно под влиянием близкого приятеля отца, местного
фельдшера. Здесь следует вспомнить, что мой дед всё-таки был цыганом и принадлежал, хоть и формально, к польско-литовскому цыганскому сообществу, в котором существует по сей день система магирипэнá – «осквернений, ритуальных загрязнений». Занятие медициной, профессия врача, безусловно, у местных цыган было магирипэн (правда, тыкнó «малое»). По этим причинам мой дед учился далеко от дома, на медицинском факультете Казанского университета. Но каким-то образом о его медицинских увлечениях стало известно и в его родных краях, и он автоматически сделался магирдó, хотя никакого «официального» решения по этому поводу такого важного органа внутреннего цыганского самоуправления, как романó сóндо (у русских цыган сэндо), не было. Но так или иначе по совершенно дикой (как мне представляется) причине дед был исключён – вернее самоисключился — из цыганского сообщества. Не знаю, кто больше от этого потерял. Слава Богу, что этой дикости не было у русских цыган. Вспомнить хотя бы светлой памяти замечательного врача-хирурга Василия Матусевича…
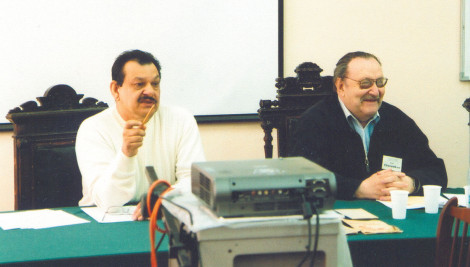
Дед вынужден был искать себе брачную пару за пределами своего сообщества – там, где о его «преступлении» не знали. И он нашёл себе жену в городе Гумбиннен (теперь Гусев) в Восточной Пруссии среди местных немецких цыган семьи Рейнхард-Фабиан. У них родилось двое детей – сын Владимир (Вальдемар), мой дядя, и дочь Ольга, моя мать.
С началом Первой мировой войны дед был мобилизован в действующую армию, был офицером медицинской службы. В 1915 году, когда немецкие войска подходили к Вильну, семьи офицеров были эвакуированы в глубь России, и семья деда попала в хорошо ему знакомую Казань. В 1917 году после развала фронтов дед приехал к семье. Но тут начались революционные события, докатившиеся и до Казани, было решено уехать восточнее, и в конце концов семья очутилась в Омске. Дед попытался найти какую-нибудь такую работу, чтобы прокормить семью и не быть связанным с политическими перипетиями. Нашлось место уездного врача в городке Кокчетав (теперь это Северный Казахстан), где он прожил с 1919 года до самой своей смерти в возрасте 86 лет в1969 году.
В Кокчетаве в том же 1919 году при родах умерла его жена, моя бабушка Мария Михайловна Рейнхард-Фабиан. Моей матушке было четыре с половиной года, а моему дяде Володе – пять с половиной.
Дед водил компанию с местными поляками, оказавшимися в тех местах благодаря военным и революционным обстоятельствам. Дружба с местными поляками на фоне безукоризненного владения польским языком и польской по происхождению фамилии позже весьма отрицательно сказалась на судьбе деда. В январе 1938 года он был арестован местным НКВД и в апреле 1939 года осуждён по статьям 58-10 (контрреволюционная пропаганда) и 58-11 (участие в контрреволюционных организациях) УК РСФСР (в Казахстане!!) на десять лет исправительно-трудовых лагерей. Вышел он из «царства ГУЛАГа» в 1946 году.
В том же 1946 году мы с мамой поехали из Москвы (куда мы перебрались из Сибири в начале 1937 года) в Кокчетав к деду, которого я в более-менее сознательном возрасте никогда не видел. Он же меня видел, будучи в Москве проездом в 1937 году.
Второй раз мы приезжали в Кокчетав с матерью на следующий, 1947 год, и снова пробыли там всё лето, три месяца. У деда был довольно большой деревянный дом (который не конфисковали, поскольку он был записан на няню). Там допоздна он мне рассказывал разные истории, пел песни и учил языкам. Таким образом, уже в одиннадцать лет я неплохо владел польским и мог изъясняться на литовско-цыганском.
Как я выяснил с помощью моего коллеги, литовского цыгановеда Вильгельмаса Белецкаса, все цыганские семьи из восточнопрусского города Гумбиннен (нынешний Гусев) в 1943 или в 1944 году были вывезены в концлагерь возле польского города Августова. Назад не вернулся никто. Так что родственников по линии бабушки я не знаю.
В позднем детстве и в ранней юности я совсем не интересовался цыганами и не обращал на них внимания – вернее, попросту, что называется, «не видел их в упор». Но всё перевернулось летом 1951 года, когда я с матерью отдыхал в селе Балки Барского района Винницкой области Украины. Около нашего дома проходило шоссе, по которому очень часто проезжали крытые повозки с кочевыми цыганами из близкой Бессарабии. Таких живописных, «киношных» цыган я не видел ни до, ни после! Иногда повозки останавливались около наших домов, потому что поблизости было «Сiльпо», и цыгане и цыганки спускались на землю зайти в магазин или просто размяться. Помню один такой июльский день, когда из остановившейся цыганской повозки вылез цыганёнок, мой ровесник лет 15-16 с чёрными кудрями под ярко-зелёной кепкой, в красной, почти новой рубахе, босой, с папироской, зажатой в углу рта. Он вальяжно расположился на травке и сразу же был окружён местными сельскими хлопцами, среди которых у меня уже было немало друзей. Цыганёнок с трудом изъяснялся на смеси русского и украинского. И здесь я решил продемонстрировать свои знания. Конечно, его диалект сильно отличался от того, что я знал, но мы каким-то образом понимали друг друга. Сельские хлопцы стояли с открытыми ртами, да и мой собеседник был очень удивлён, видя перед собой явно городского подростка неопределённого антропологического типа, но говорящего явно по-цыгански (хоть и несколько по-другому).
С тех пор медленно, но верно у меня стал просыпаться интерес к цыганам и их культуре, которую я совершенно (или почти совершенно) не знал, несмотря на хорошее владение языком. В 1951-1952 годах я несколько раз побывал на спектаклях театра «Ромэн». Зимой 1953 года записался в общий зал Ленинской библиотеки и стал читать книги по цыганской истории и этнографии (благо их было очень мало). Летом 1953 года после окончания школы решил поступать на индийское отделение
Московского института востоковедения (МИВ). На индийском отделении вакансий не было, и я семестр проучился на турецком отделении. Но в 1954 году МИВ закрыли, якобы по соображениям экономического порядка, а студентов младших курсов распределили по другим вузам. И я оказался на английском отделении Московского государственного педагогического института иностранных языков.
Через одну трамвайную остановку от моего института находилась знаменитая «Шестая верста» («Шовто вэрста») – цыганский барак, построенный в начале 30-х годов прошлого века для работников «Цыгпищепрома», в основном выходцев из Смоленщины. Я завёл знакомства в этом бараке, где жила весьма разнообразная по занятиям и уровню образования публика.
Вообще, северо-восток Москвы был, по моим наблюдениям, наиболее «цыганским». Цыгане (русские цыгане, русска рома) жили и за теперешней территорией ВДНХ на Извилистой улице, и в домах барачного типа напротив ВДНХ, на знаменитой Мазутке (в Мазутном проезде, теперь улица Павла Корчагина).
На 1-ой Останкинской улице жила дружная семья цыган-котляров Константиновых. С Лёшей (Лёша шяв ле Савкаско) я познакомился летом 1954 года и стал приезжать к нему в гости. У них я получил первые уроки котлярского (кэлдэрарского) диалекта и представления о традиционном котлярском этикете.
Возле теперешней станции Северянин Ярославского направления до осени 1956 года часто располагались кочевые цыгане – в палатках, но без лошадей. Помню, 1 сентября 1954 года я целый день провёл в палатках крымских цыган, возвращавшихся из среднеазиатской ссылки на Северный Кавказ. У них я слышал от стариков мелодичные крымско-татарские песни, рассказы о довоенной жизни в Крыму и на Северном Кавказе, и даже помог больной женщине изобразить «мюсюльманскими», т.е. арабскими, буквами её имя на полях священного текста, зашитого в нашейную ладанку амайлéс. Это действие должно было помочь в её излечении. Интересно, что «священный» текст представлял собой обрывок страницы из дореволюционной татарской конторской книги на арабском алфавите. Но я об этом гостеприимной хозяйке и её совершенно бедному супругу в рваном армейском кителе, перепоясанном верёвкой, конечно же, не сказал.
Это было моё первое знакомство с кочевыми крымскими цыганами из группы кырлыдэс. До этого я познакомился с артистом цирка Эмирвели (Мишей) Мамутовым, очень интеллигентным и воспитанным крымским цыганом, который умел писать не только по-русски, но и по крымско-татарски (кстати, арабским алфавитом).
В сезон 1954-1955 гг. стал активно и часто посещать цыганский театр «Ромэн», перезнакомился со многими артистами.
Неоднократно я встречался и разговаривал с патриархом цыганского театрального искусства Иваном Ивановичем Ром-Лебедевым.
Для продолжения повествования о моих знакомствах с выдающимися персонами цыганской культуры необходимо вернуться в барак на «Шестую версту». В одно из посещений своего хорошего знакомого Миши Василькова я застал у него представительного цыгана лет 35-ти.. Его звали Николай Георгиевич Саткевич. Это был известный цыганский поэт и общественный деятель, успевший до войны поучиться в московском цыганском педагогическом техникуме у Николая Александровича Панкова и начавший свою литературную карьеру с публикации по-цыгански стихов в сборнике «Романо альманахо» (1934 год).
Во время своего пребывания в Москве Саткевич решил познакомить меня с ещё живыми тогда деятелями довоенной цыганской культуры, так сказать с «отцами-основателями». Первым, к кому он привёл меня, был легендарный Вячеслав Александрович Германо.
Вячеслав Александрович обитал со своей супругой Марией Вардашко в двух смежных комнатах огромной коммунальной квартиры в доходном доме в Столешниковом переулке. Я очень часто посещал В.Германо вплоть до его смерти в апреле 1955 года, он много рассказывал мне о зарождении цыганской литературы в СССР, об отдельных персонажах цыганского культурного возрождения 20-х – 30-х годов прошлого века. Он давал мне читать рукописи своих ещё (а это значит, никогда) не опубликованных произведений.
Через В.А.Германо я имел счастье познакомиться с другим живым классиком цыганской советской литературы, поэтом и переводчиком Николаем Александровичем Панковым и с его семейством – супругой Яниной Стефановной и дочерьми Натальей и Любовью. Жили они в комнатёнке в старом деревянном доме без каких-либо удобств за Заставой Ильича.
С Николаем Александровичем мы очень много обсуждали различные проблемы цыганского языка, образования цыганских детей и молодёжи. Он был почётным членом всемирно известного английского Общества по изучению цыган, получал журнал этого общества. Мы с ним долго сидели, изучая статьи в этом журнале – Николай Александрович не владел никаким другим языком, кроме русского и цыганского, а его супруга, будучи по происхождению полькой, кроме русского и выученного в семье мужа цыганского, прекрасно владела родным польским.
Умер Николай Александрович в 1959 году. На его похоронах я познакомился с Татьяной Владимировной Вентцель, о которой много слышал от деятелей цыганского довоенного культурного движения. Она, в частности, принимала участие в написании первых учебников цыганского языка для цыганских школ. С 1959 года до её смерти в 1989 году мы плодотворно сотрудничали, написав несколько совместных работ по цыганскому языку – например, большой очерк «Диалекты цыганского языка» для академического сборника «Языки Азии и Африки». Эта работа до сих пор широко цитируется в научном мире у нас и за рубежом. Татьяна Владимировна была широко образованным языковедом, но больше теоретической направленности. Цыганским языком (и тем более его диалектами) она практически не владела, и этот пробел восполнял я.
Начиная со второй половины 1950-х годов я решил заняться «теоретической» подготовкой по цыганской истории, этнографии и языкознанию, благо в наших московских столичных библиотеках (Ленинской, Исторической, Иностранной литературы и др.) хоть и разрозненно, хоть и не совсем систематизированно, наличествовала литература по интересующей меня тематике. Для ознакомления с нею пришлось подучить некоторые иностранные языки. Забегая вперёд, хочу сказать, что заниматься цыганской диалектологией, изучением и описанием различных цыганских диалектов совершенно невозможно без хотя бы беглого ознакомления с языком нецыганского («гадженского») населения, среди которого цыганские носители данного диалекта живут или некоторое время тому назад проживали. Когда светлой памяти один из авторов «Цыганско-русского словаря (кэлдэрарский диалект)» (Москва, 1990) Роман Степанович Деметер впервые побывал в Молдавии, он вернулся потрясённый словарным запасом румынского (молдавского) языка и сказал мне: «Слушай! Я понимал в их речи каждое четвёртое слово!» И в этом ничего удивительного нет – котляры (кэлдэрары) распространились по Европе и Америке в 18 веке из Румынии, и в их диалекте процентов сорок румынских слов.
В 1967 году Р.С.Деметер и я в соавторстве опубликовали в молдавском академическом журнале «Лимба ши литература молдовеняскэ» («Молдавский язык и литература») статью «Восточнороманское влияние на цыганский язык (кэлдэрарский диалект)». Это был первый опыт введения у нас в стране котлярского диалекта в научный оборот. Следующая замечательная публикация Романа Степановича Деметера (в соавторстве с братом Петром Степановичем) — сборник «Образцы фольклора цыган-кэлдэрарей» в московском издательстве «Наука» в 1981 году. Я совместно с д-ром В.М. Гацаком написал предисловие и часть комментариев к этому сборнику. Самым замечательным детищем творческой деятельности Романа Степановича был задуманный им ещё в середине 50-х годов прошлого века словарь его родного котлярского (кэлдэрарского) диалекта. Он собирал слова и выражения для этого словаря в течение более тридцати лет. Я был научным редактором этого словаря и составителем цыганско(котлярско)-английской части, помещённой в словаре. Работа была проделана колоссальная. Мы с Романом Степановичем встречались и в редакции издательства, и у него дома, и у меня дома, обсуждали, спорили (иногда даже яростно), но всегда приходили к соглашению и к компромиссу. В январе 1989 года я заработал обширный инфаркт (да будет от вас подальше!), а Роман Степанович так и не увидел изданным свой словарь. Он скоропостижно скончался в начале лета 1989 года. Земля ему пухом! «Цыганско-русский словарь (кэлдэрарский диалект)» авторства Р.С. и П.С. Деметеров вышел из печати в московском издательстве «Русский язык» в 1990 году.
Но публиковаться на цыганскую тему я начал несколько раньше, а именно в 1959 году, написав статью по цыганам для Малой Советской Энциклопедии. Затем я опубликовался в английском «Журнале Общества по изучению цыган» об одном фольклорном цыганском произведении из Болгарии, которое любезно предоставил мне ныне покойный болгарско-цыганский общественный и культурный деятель Димитар Големанов. В 1969 году я написал обзорную статью по цыганам СССР для французского журнала «Цыганские студии» («Этюд циган»), а затем в том же журнале в двух номерах опубликовал тексты с комментариями и переводами двух урсарских сказок. Публиковался и «дома», в СССР – в 1975 году статья «Цыганская литература и цыганский язык» в Краткой Литературной Энциклопедии, а в 1978 году статья под тем же названием в Большой Советской Энциклопедии. В 1974 году после общения с цыганами-выходцами из Браславского района Белоруссии опубликовал в журнале «Беларуская лiнгвicтыка» статью «Цыганский диалект в белорусской языковой среде».
Публиковаться по цыганской тематике в СССР по разным надуманным идеологическим причинам было сложно, поэтому как-то старались обойти этот полуофициальный запрет. В 1979 году я стал членом Географического общества СССР (Московского филиала) и активно участвовал в работе Комиссии этнографии. В рамках заседаний этой комиссии в конце 70-х – начале 80-х читались доклады по малым народностям, в том числе и по цыганам. Мною был прочитан доклад «Некоторые проблемы этнографического изучения цыган СССР», который впоследствии был опубликован в сборнике «Малые и дисперсные группы Европейской части СССР», изданном Географическим обществом в 1985 году. Этот доклад до сих пор цитируется специалистами.
Ещё в конце 50-х годов прошлого века в среде московской цыганской интеллигенции наблюдалось своеобразное «брожение умов». Время от времени собирались у кого-нибудь на квартире, горячо обсуждали актуальные вопросы цыганской жизни, писали письма-петиции в «компетентные органы» с просьбой обратить внимание, например, на низкий уровень цыганского образования, на отсутствие национальных школ, книгопечатания на цыганском языке и т.д. Конечно, никаких ответов на эти письма не приходило, в лучшем случае приходили примитивные, но «идеологически выверенные» отписки. Одним из самых активных инициаторов таких мероприятий был Н.Г.Саткевич, который в конце 60-х окончательно перебрался в Москву. К этой деятельности он привлёк своего приятеля по педагогическому техникуму капитана в отставке смоленского цыгана Николая Александровича Меньшикова (имевшего в молодости игривое прозвище Раклячё) – участника войны, танкиста, инвалида, пенсионера Министерства обороны. Несмотря на последствия страшного ранения (он горел в танке и носил платиновую пластину в черепе), Н.Меньшиков был по-юношески бодр и активен. Он в свою очередь привлёк ещё одного фронтовика – Ивана Пасевича. Одно время к ним присоединились бывшие военные лётчики, участники ВОВ, двоюродные братья Фёдор и Александр Мурачковские. Компания была представительная, вот только результаты её деятельности (Боже упаси, не по её вине!) были никакими. Я помню, в подобном мероприятии однажды принял участие и театр «Ромэн». Весной или осенью 1957 года парторг театра Иван Иванович Ром-Лебедев созвал так называемый «партхозактив цыган Москвы и Московской области». Дело в том, что после знаменитого указа 1956 года о принудительной оседлости цыган из районов в театр «Ромэн» как в единственное «официальное» цыганское учреждение стали приходить письма с жалобами на самоуправство местных властей при устройстве цыган в колхозы и вообще на работу. Письма были написаны, что называется, «кровью» и с чувством отчаяния от полной безысходности. Но что мог сделать «партхозактив»? Правильно, принять очередное письмо-петицию в высшие органы государственной и партийной власти. Ну и нагорело потом И.И.Ром-Лебедеву за этот «партхозактив» в Свердловском райкоме КПСС! «Это что ещё за партхозактив в Москве по национальному признаку?!»
Атмосфера стала немножко разрежаться только с началом перестройки и кардинально изменилась в лучшую сторону в конце 80-х годов. В то время я вместе с другими коллегами по Комиссии этнографии Географического общества стали работать (естественно, на общественных началах) в Комиссии по сохранению и возрождению культур малых народов Советского фонда культуры. Руководил этой комиссией член-корреспондент РАН Эдхям Рахимович Тенишев.
Как-то раз в разговоре с Георгием Степановичем Деметером я упомянул о том, что являюсь членом этой комиссии, и у моего собеседника сразу же возник вопрос о том, нельзя ли организовать в Советском фонде культуры Секцию цыганской культуры. Я поговорил с Э.Р.Тенишевым, он посоветовал обратиться к заместителю председателя Советского фонда культуры Д.С.Лихачёва в Москве Георгу Мясникову. Г.С.Деметер побеседовал с Г.Мясниковым, и в сентябре 1989 года состоялось учредительное заседание Секции цыганской культуры. Постепенно Секция цыганской культуры Советского фонда культуры превратилась в Московское цыганское общество «Романо кхэр» во главе с Г.С.Деметером.
На 4-ом конгрессе в Варшаве я познакомился с чудесным человеком – цыганским языковедом, собирателем цыганского фольклора Фридрихом Мозесом Хайншинком. Он познакомил меня со многими европейскими цыгановедами, и я стал участвовать в национальных и международных научных мероприятиях по цыганской тематике, посетив за эти годы двенадцать стран Европы.
Я начал регулярную трудовую деятельность в 1957 году – работал переплётчиком и линотипистом в типографии, чертёжником в проектной конторе, затем решил использовать некоторые знания языков и работал редактором в библиотеках, в частности, в Библиотеке иностранной литературы. В 1970 году окончил заочное отделение исторического факультета МГУ. С 1970 по 1994 год, как я уже писал, работал в Институте научной информации по общественным наукам РАН, откуда ушёл на преподавательскую работу в школу – преподавал цыганский язык в субботне-воскресной цыганской группе Учебно-воспитательного комбината № 1650
г.Москвы, а оттуда вместе с группой (фактически это был весь коллектив детского ансамбля «Гилори» под руководством В.П.Деметера) перешёл в центр творчества детей и молодёжи «Сокол». В 1996 году мне предложили работу в Российском научно-исследовательском институте культурного и природного наследия им.Д.С.Лихачёва – научную работу по описанию, анализу и сохранению цыганской традиционной культуры. Конечно же, я с радостью согласился и работаю старшим научным сотрудником Сектора живой традиционной культуры упомянутого института по сей день, представляя его на международных научных конференциях по цыгановедению. Всего мною было опубликовано свыше восьмидесяти научных работ, в том числе несколько в моём институте.
Но итогом всей моей деятельности на поприще цыгановедения стала книга «Рома, иначе известные как джипсиз, хитанос, йифти, циган, цигань, чингене, цигойнер, боэмьен, трэвеллерз, фаренде и т.д. Том 1. История, язык и группы. Том 2. Традиции и тексты». Книга написана на английском языке совместно с моим швейцарским коллегой Штефаном Ледерихом, который обеспечил качественный английский и важные материалы по истории Западной Европы. Книга вышла в Швейцарии, в городе Базель в известном издательстве «Швабе» в 2004 году.
Мне кажется, пора заканчивать моё повествование. Хотелось рассказать как можно больше и как можно подробнее о том, что пережил и что видел, а также исправить неверные сведения и суждения о событиях, свидетелем, а иногда и участником которых я был. Но невозможно объять необъятное – так что не судите меня слишком строго.