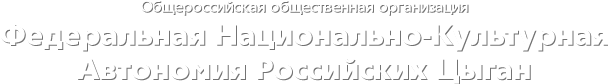Театр «Ромэн» во время войны — 15.09.2007
Годы войны… Годы нашей молодости, наших страданий, наших потерь… В Москве, в начале сороковых, в воздухе уже витала обеспокоенность приближением чего-то опасного. Люди боялись войны. Ходили всякие слухи, делались всякие предположения.

Театр «Ромэн» в мае 1941 года выезжал на гастроли: сначала в Иваново-Вознесенск, потом в Ленинград, далее в Свердловск, потом в Ташкент.
Я должна была выехать прямо в Ленинград… В Ленинграде мы с Ваней остановились, как всегда, у моих родителей на Петроградской стороне. Тогда у нас была большая семья: папа, мама, бабушка, двое дядей. Дядя Володя со своей женой и маленькой дочкой Ксюшей жили отдельно. Брат мой младший Ника служил в армии. Кто мог предвидеть, что почти всех их мы видели в последний раз! Из всей нашей семьи мне удалось потом встретиться только с мамой — вывозили ее на носилках из Ленинграда, как только был сделан прорыв в окружении, — братом Никой, приехавшим в Москву после Сталинградской битвы получать ордена, и двоюродной сестренкой Катей, вывезенной по Ладоге и приютившейся в детском доме где-то на Алтае. После войны мы отыскали ее, и она жила у нас, называла Ваню папой.
Сама же война застала нас на гастролях в Свердловске. Не помню откуда, я возвращалась в этот пригожий теплый день к себе в гостиницу, которая находилась сразу же за оперным театром. В нем проходили наши гастроли. Я увидела, что возле театра толпится множество людей. Оказалось — слушают с большим вниманием какую-то передачу из репродуктора. Подошла ближе. Война! Помню, что не было никакого шума, никаких разговоров, все расходились молча, посерьезневшие и притихшие.
Не скажу точно — в тот же вечер или на другой день, мы с Лялей Черной из окна ее номера смотрели на шеренги первых новобранцев. И опять полная тишина, сосредоточенность и какая-то строгость. Мужчины шли молча, вокруг них теснилась толпа женщин, детей, провожающих. Слышны были только их шаги, не было ни разговоров, ни криков, ни плача.
Заплакали горько мы с Лялей. Невозможная была картина. Мне показалось, что если бы люди шумели, плакали — и им, и нам, наблюдавшим за ними, было бы легче.
Как ни странно, спектакли в Свердловске до конца проходили аншлагами. В зале появилось большое количество людей в военной форме. Актеры же по несколько раз в день ездили на призывные пункты давать перед отъезжающими на фронт шефские концерты.
Вскоре окончились гастроли в Свердловске, и мы уехали продолжать их в Ташкент. По дороге нам навстречу шло бесконечное, так, по крайней мере, казалось, множество эшелонов, наполненных новобранцами. В основном это были молоденькие, почти мальчики, какие-то напуганные, в большинстве своем азиатского происхождения. Они смотрели своими раскосыми глазами на нас внимательно и грустно, а мы что-то кричали им, махали руками.
Вот и Ташкент! Красавец город, весь утопающий в зелени.
В гостинице шла обычная, почти светская жизнь. Работал ресторан, до поздней ночи звучала музыка, сновали красиво одетые люди. Мне лично, помню, это было неприятно, напоминало пир во время чумы. Но кроме жизни в гостинице, была еще другая жизнь, тяжелая и какая-то непредсказуемая. Люди уезжали на фронт, работали в полную нагрузку призывные пункты.
Театр работал, как одержимый. Днем репетиции, вечером спектакли. В перерыве между ними — выступления на призывных пунктах.
Ваня работал и как гитарист, и как старший в бригаде. Бригад было несколько, актеры сменяли друг друга, а гитаристов не хватало. Они выезжали не только ежедневно, но и не по одному разу.

Все уставали, но я не помню случая, когда бы кто-нибудь пожаловался или постарался отделаться от шефского концерта. Характеры у всех как-то сразу изменились, посуровели все и повзрослели. Куда-то подевались актерские амбиции и актерская ревность…
А сейчас мне хочется рассказать о тех эпизодах нашей «военной» жизни, которые мне почему-то особенно запомнились.
Когда мы, после наших запланированных гастролей, стали ездить по всем республикам и городам, попали мы и в Тбилиси. В это время там находился МХАТ со всеми своими знаменитостями. Приехал туда и Михаил Михайлович Яншин. Был он тогда мужем нашей цыганской звезды Ляли Черной… Приехал он в Тбилиси вместе с поэтом Михаилом Светловым. Так как Яншин, помимо МХАТа, работал еще и у нас, он надеялся уговорить Светлова написать для «Ромэна» пьесу.
…Вскоре Светлов сел за работу над пьесой для нашего театра, какое-то время ездил с нами по Кавказу, а потом уехал на фронт. Он каким-то образом закончил там пьесу и раза два вырывался с фронта к нам — посмотреть репетиции. Мы очень дружили. Спектакль Светлова «Действующие лица» был о войне, был поэтичен и музыкален. Ваня играл там роль Андрея и, несмотря на свою нелюбовь к пению на сцене, прелестно исполнял романс «Я другом ей не был, я мужем ей не был, я только ходил по следам…»
К сожалению, почему-то не сохранились в театре ни сама пьеса, ни рецензии, ни даже фотографии…
Из Тбилиси театр перебрался в Сочи. Было уже прохладно, наступала глубокая осень. Мы с Ваней, Ляля и еще несколько наших актеров жили, если не ошибаюсь, в двух флигелях небольшой гостиницы недалеко от театра. У Яншина было свободное время от спектаклей МХАТа и от очередных съемок — и он тоже находился вместе с нами. На спектаклях были аншлаги, в зале большинство зрителей — военные. Вечерами город пустел, погружался в темноту, ночью людей патрули пропускали только с разрешениями.
В гостинице в основном жили летчики, моряки, застрявшие в городе по своим делам другие военные. Город тогда не бомбили, но обстановка была напряженная. Рядом в море, на небе кипели бои. Ваня подружился с несколькими летчиками. Мы собирались поздними вечерами то у нас в номере, то у кого-нибудь из них, Ваня брал гитару, пел… Ребята слушали, иногда пили, и да же много когда кто-нибудь не возвращался с задания, вспоминали своих родных, о войне почти не говорили. Им нужна была музыка, именно цыганская, задушевная и чем то близкая, легкое забытье, уход от завтрашней реальности. Эти вечера были незабываемы. Ваня понимал, что нужно ребятам, грустил вместе с ними в своих романсах и песнях, и в то же время вселял в душу надежду, успокоение. Удивительно он пел!..
А компания наша быстро редела. Вечерами не хватало то Алеши, то Пети, то Максима… Не возвращались с задания. Иногда просто уезжали то надолго, то вскоре возвращались, то навсегда исчезали. И все эти случайные люди были абсолютно своими, почти родственниками.
…Гастроли театра в Сочи заканчивались. Наши друзья стали не на шутку грустить, предчувствуя скорое расставание. Да и нам всем было больно: кто из них доживет до Победы? Тут еще совсем близко от Сочи немцы потопили военный корабль, рассказывали, что моряки перед тем, как скрыться под водой, пели «Варяга».

Война и ее ужасы проступали все более отчетливо. Самое страшное, что от нас как-то незаметно сегодня был на спектакле, дарил цветы, смеялся, шутил, уходили веселые, жизнелюбивые молодые люди,а завтра товарищи погибшего нам скажут: «Алеша не вернулся с задания. Иван, спой его любимый «Гори, гори, моя звезда…» Помянем Алешу…».
И вот наступил день нашего отъезда. Все мы были грустны, но старались не показывать этого. Девочки же наши не скрывали своих слез. У многих появились в Сочи возлюбленные. Была в это напряженное время какая то особая жажда любить и быть любимыми. Никто не знал, что будет завтра с каждым из нас. Провожающих друзей было много. Не пришли только те, кто был на задании или в море. Зрители толпились вокруг автобусов, которые везли нас в Сухуми…
И вот мы в Сухуми. Гостиница на берегу была, как видно, шикарная. Но когда я хотела положить на постель вынутые из чемодана вещи – ужаснулась. Ползали вши… Вспоминаю, как Ваня, страстный рыболов, схватил удочки и буквально умчался на мол – ловить рыбу. Мол был напротив гостиницы. Разбирая вещи, я никак не могла найти свою итальянскую черную широкополую шляпу. Решила спросить у Вани – не видел ли он. Побежала на мол. Ваня поместился где-то внизу, на сваях, что ли… Стала его звать. Послышался тихий голос: «Не шуми! Разгонишь рыбу! Самый клев». – «Ваня, ты не видел мою шляпу?» Молчание недолгое, а потом: «Она у меня. Очень нужно…» Шляпа использовалась то ли как сачок, то ли еще как. Поохав и побрюзжав, я удалилась.
Удивительное у Вани было отношение к вещам, да и к деньгам тоже. Никакой власти они над ним не имели. Есть – хорошо, нет – ну и черт с ними!
Зарабатывал он всегда хорошо, но расставался с деньгами с легкостью и даже небрежностью. Кстати, и Ляля (Черная. – Прим. ред.) в этом была очень на него похожа. Денег у нее была уйма, тратила она их легко и щедро, давала безумные суммы «на чай», содержала всех родственников, делала дорогие подарки, помогала молоденьким малооплачиваемым актрисам. И когда во время войны все изменилось и жить стало трудно и голодно – оставалась такою же, делилась последним, отдавала то немногое, что у нее было, другим – более нуждающимся.
И вот парадокс – цыгане, гадающие, нищие, выпрашивающие копеечку – абсолютно независимы от власти денег. Они имеют к ним особое отношение: легко тратят, не жалеют, как бы немножечко презирают. Не случайно, что многие, в прошлом знаменитые цыганки, заканчивали свои дни чуть ли не в нищете. Они никогда ничего не копили и щедро растрачивали свои состояния.
Возвращаюсь к дням нашего пребывания в Сухуми. Начались спектакли, бесконечные шефские концерты, посещения, почти ежедневные, госпиталей. Они уже интенсивно стали наполняться ранеными. Яншин заканчивал репетиции «Чудесной башмачницы» Гарсиа Лорки. Ляля играла башмачницу. Играла великолепно. Партнером ее в этом спектакле был Граф Янковский. Репетиции шли полным ходом. Ляля была загружена до предела, почти не покидала здание театра.
И вот завтра премьера «Чудесной башмачницы». И как назло – у «башмачника», Графа Янковского, внезапно поднимается температура, раскалывается от боли голова. Что предпринять?! Яншин заявил, что отменять премьеру не будет и сам рискнет сыграть роль башмачника.
Что это был за спектакль – рассказать невозможно. Яншин был удивителен, Ляля потрясающе хороша, все отдавали себя так, как будто это было последнее выступление в жизни. Успех бешеный, сцена утопала в цветах, зрители не покидали зал.

…В Батуми Яншина с нами уже не было, уехал в Тбилиси, где проходили спектакли МХАТа. Театр же «Ромэн», как и в Сочи, и в Сухуми, с головой окунулся в напряженнейшую работу. Днем репетиции, вечером выступления, а в перерыве – шефские концерты и обслуживание госпиталей. Только в Батуми стало хуже с едой, не так комфортны гостиницы. Куда-то пропала горячая вода, да и холодная подавалась с перебоями. Прекратили работать вечерами буфеты на этажах. Как и прежде, у актеров наших появилось множество поклонников и друзей из числа военных и моряков. И по-прежнему так же внезапно они исчезали или о них говорили: не вернулся с задания.
…В Махачкале мы жили уже в частных квартирках, совсем не благоустроенных. Питались по талонам в общественных столовых, скудно, и жили как все, тяжело и бедно. Мы утратили столичный лоск, пообносились, в свободное время пытались на базаре обменять что-либо из одежды на какие-нибудь продукты, это не часто удавалось. И все же чемоданы наши стали почти невесомыми — есть-то всем хотелось.
В Махачкале опять произошла история с Лялей (Черной. – Прим. ред.). Ее сестра Тата Голицына (от первого брака матери Ляли Марии Георгиевны) была замужем за дипломатом и жила в Лондоне. До войны Ляля получала от нее посылки. И в Махачкале ходила в синем теплом пальто из Лондона, отделанном у рукавов чернобуркой.
Надо сказать, что в это время в городе на огромном пространстве раскинулся лагерь беженцев из разных областей и городов. Возвращаясь из театра, мы проходили в свои домишки мимо этих людей, расположившихся со всем своим скарбом прямо на земле.
Ночами было уже довольно холодно. С моря иногда дул пронзительный ветер. Люди, обосновавшиеся в лагере, мечтающие выбраться отсюда морем, были разные. И в один далеко не прекрасный вечер у одной молоденькой женщины, матери грудного ребенка, украли теплую жакетку. Единственную теплую вещь… Она очень убивалась и плакала. Ляля шла мимо нее. И увидев раздетую женщину с ребенком на руках, сняла лондонское пальтишко и набросила его на сотрясающиеся от рыданий плечи. И быстро ушла.
А наутро, увидев на беженке такое пальто, люди из лагеря решили, что оно краденое, и сообщили в милицию. К счастью, беженка и в темноте узнала Лялю – ее после фильма «Последний табор» знали буквально все – и рассказала все как было. Милиция явилась на репетицию и, к великой досаде Ляли, стала уточнять подробности. Милиционерам не поверилось, что в такое время можно разбрасываться столь шикарными вещами. Ляля отправила их восвояси, предварительно прочитав лекцию о чуткости и о большем доверии к людям.
Гастроли в Махачкале приближались к концу. Дни стояли теплые, море было спокойным – и наша администрация ломала голову, как бы нам поскорее выбраться из города. И тут вдруг в театре появился нежданно-негаданно знакомый нашего друга-военного, один из его команды. Звали его почему-то Зоинькой, а был он Зиновий. Сначала мы все думали, что он в этой команде работает шофером. Машину всегда водил он. Но, вслушиваясь в его иногда почти командирские распоряжения, приглядываясь к его манере вести себя, мы решили, что не стоит допытываться до правды. Война и нас, актеров, приучила не совать носа туда, куда тебя не спрашивают. Зоинька был молод, хорош собою и по-военному подтянут. В Махачкалу он приехал по каким-то своим делам, увидел наши афиши и помчался в театр. Как потом оказалось – он пошел в дирекцию и объявил, что будет стараться достать нам какое-нибудь судно и как можно быстрее отправить из Махачкалы.

Когда мы с Ваней узнали, что Зоинька договорился о нашей отправке морем через три дня, и я, и Ваня почувствовали огромную благодарность этому невесть откуда взявшемуся человеку. Все знали, что достать хоть какой-нибудь морской транспорт было необыкновенно сложно. Нам выделили буксир, баржу, и через три дня мы очутились в море. А через два дня после нашего отъезда город Махачкала подвергся жесточайшей бомбежке. Нам страшно было подумать, что произошло тогда с лагерем беженцев, с нашими деревянными домишками, со всеми оставшимися в городе!..
Мы были спасены. Но впереди нас ждало великое испытание.
На барже, кроме нашего театра, разместились еще коллектив театра имени Ермоловой и рабочие-нефтяники. Весь народ устроился между лежащими на палубе нефтеналивными трубами. Внизу находились емкости с нефтью. Никого это как-то не беспокоило. Буксир резво разрезал морские волны, солнце сияло как-то по-летнему, было тепло. И всем казалось, что до Гурьева мы доберемся быстро. Люди совсем не думали о переменчивости погоды, о ветрах, штормах и захлестывающих волнах, которые нас быстренько бы смыли в это сейчас такое спокойное и ласковое море. Хлеб и паек на дни нашего путешествия были выданы всем в городе. И весь такой разношерстный и неспокойный народ мирно нежился на солнце и занимался своими делами. Кто-то стирал, кто-то играл в карты, кто-то мудрил над своим скудным пайком. Некоторые даже купались. Так как течение было сильное и быстрое, то сбоку, посередине баржи, спустили трап. И пловцы, добравшись до него, выбирались на баржу.
А через дня два-три произошло весьма неприятное событие. Наш буксир по одному ему известным причинам оставил нас и куда-то торопливо отбыл. Кажется, команда его пошла то ли за подмогой, то ли за продуктами. Мы остались одни. Вода пресная заканчивалась, хлеб и консервы тоже. Помню, никакой паники не было, все спокойно ждали возвращения буксира. А он все не приходил. Сейчас не скажу, сколько времени положили на ожидание, не скажу, на какой день после отплытия буксира появился план нашего спасения. Все начали понимать, что без воды и продуктов мы долго не выдержим. Да и погода в любую минуту могла измениться. Ночью уже становилось холодно. И до сознания как-то сразу дошло, что сидим мы на своей нефти, как на пороховой бочке, и что можем при первом же сильном ветре и больших волнах быть смытыми в море. И тогда наш ведущий актер, Сережа Шишков, решил вплавь добраться до военных патрульных судов, что были видны на горизонте.
Сережа был удивительный парень. Когда-то он был грозою московского Петровского парка. Но, как истый цыган, хорошо играл на гитаре и задушевно пел. К тому же был очень красив – яркая цыганская внешность и стройная атлетическая фигура. И вот Ваня, приметив Сергея и оценив и явные способности его, и красоту, подружился с ним и решил сделать из него актера. Повел его в театр, познакомил с коллективом, пригласил к себе в дом. И «гроза Петровского парка» зачастил на спектакли «Ромэна». А вскоре был принят в труппу театра. Сережа оказался очень талантливым человеком. Но часто подводили его свободолюбие, неукротимый нрав и полное неприятие дисциплины. Когда его увольняли в очередной раз, а театр ехал на гастроли, Ваня просто забирал его и возил с собою. Тогда они оба жили более чем скромно, руководство этим обстоятельством сокрушалось, и… Сережу принимали обратно.
А «гроза Петровского парка» был на самом деле очень добрым, отзывчивым и удивительно скромным парнем. И когда он стал премьером театра, незаменимым артистом – и тогда у него не было ни тени зазнайства, чванства, самовлюбленности. И вот теперь Сергей Шишков, будучи прекрасным пловцом, решил проплыть огромное расстояние в открытом море и, добравшись до патрульных кораблей, сообщить о нашем бедственном положении. Решено было, что завтра с утра с ним поплывет еще один наш актер. Сразу скажу, что тот очень скоро приплыл обратно, по-видимому, почувствовав, что силы у него недостаточно.
В ожидании завтрашнего дня, в надежде, что мы получим помощь, все занялись своими делами. Мы с Ваней, пристроившись на одной из нефтеналивных труб, уселись позавтракать. Оставалась у нас, как сейчас помню, четверть консервной банки тушенки. А пить уже было нечего. И вдруг на горизонте справа появилась небольшая точка. Самолет! Он направлялся прямо к нам. Когда его можно было разглядеть – все замерли. Самолет был немецкий. Мы видели свастику, летчика, а он видел нас, пеструю разноликую толпу, детей… Помню – я сказала Ване: «Обними меня крепче…» Я видела, как самолет низко пролетел над нами, и подумала, что он пожалел нас и уходит. Но потом мне объяснили, что он должен был развернуться для бомбежки. И в это время со стороны Астраханского рейда послышались залпы. Стали стрелять с военных патрульных судов. Летчик быстро развернулся и полетел обратно.
Несколько минут на барже стояла полная тишина, даже дети почему-то не плакали. А уже потом все разом заговорили, кто-то рыдал, кто-то смачно ругался, кто-то крестился.

После всего пережитого Сергей Шишков окончательно утвердился в своем решении доплыть до патрульных кораблей. Рано утром мы все провожали его. Второй доброволец нырнул вслед за ним, но через полчаса, и, видимо, с большим трудом, вернулся. Ожидание было тягостным. Доберется ли Сережа, не случится ли что-то недоброе с ним?.. Никто ничего не мог предсказать, надо было ждать и надеяться. Все приуныли, настроение было подавленное. Ваня старался нас приободрить, утверждал, что такой спортсмен и пловец, как Сережа, обязательно доплывет до патрулей.
К вечеру на военном корабле вернулся Сережа. Моряки все высыпали на палубу, разглядывали нас, улыбались, приветственно махали руками. Сережа стол между ними, прикрытый чьей-то шинелью.
Через несколько часов прибыл новый буксир, побольше исчезнувшего и посолиднее. Привез он и немного хлеба и продуктов, и пресную воду. И мы бодро двинулись в путь. Наш герой Сережа почти все время спал, а когда просыпался, ел и опять проваливался в сон. Уж очень много сил было им вложено в это опасное путешествие. Мы же все воспрянули духом, полагая, что раз судьба была к нам так милостива – она уже благополучно доведет нас до Гурьева. Так и случилось; вскоре мы уже подплывали к нему.
В Гурьеве нас разместили в помещении школы. Устроились на ночевку на чемоданах, а кто прямо на полу. Ваня поставил два чемодана, на них положил наши пальто, и таким образом соорудил мне ложе. Сам лег возле, прямо на полу, постелив рыбацкий брезентовый плащ. Ночью я услышала, что он не спит и ворочается. Я спросила, отчего он не спит. Он ответил, что кто-то по нему ползает. Я очень хотела спать и, понимая, что и ему надо выспаться после всех потрясений, переложила его на свое место, а сама примостилась на полу. Ваня укутал меня нашими пальто, и я быстро уснула. Проснулась оттого, что вокруг меня галдели наши актеры. Оказывается, я мирно спала с тарантулом. Хорошо еще, что было такое время, когда он не очень кусался.
В Гурьеве Ваня организовал рыбацкую бригаду, всем раздал свои снасти (а их у него было много) и обеспечивал театр свежей рыбой. Актрисы наши трудились над нею целой артелью, чистили, жарили на разведенных кострах. Жили как бы таборной жизнью, дружно и сплоченно. Только так можно было выжить!
Не помню, куда судьба нас забросила после Гурьева. За годы войны театр побывал не то в семидесяти трех, не то в семидесяти семи городах. И вспомнить, когда мы были в том или ином месте, я не могу. Да и никто уже не помнит…
Ляля работала много, играла почти каждый день спектакли, ездила на шефские концерты, в госпитали. Не могу забыть один такой концерт. По-моему, это было где-то на Урале. Ваня был бригадиром, и, собрав небольшой, но очень хороший коллектив, поехал утром на небольшом грузовичке куда-то за город. Ехали к раненым. Встретили приветливо, по-будничному, ничего не объясняя. Ваня с гитаристами где-то в столовой настраивал гитары, я помогала костюмерше раскладывать костюмы. Актрисы гримировались, причесывались, все было как всегда – вполне обычно. Перед сценой, отделенной какой-то занавеской, был небольшой зал. Был он пока пуст. Потом стали доноситься голоса, покашливание, стук отодвигаемых кресел. Раздался звонок, все актеры живописно уселись, кто на полу, на ковре, кто на стульях. Как всегда, это было красивое зрелище. Смуглые лица, огромные цыганские глаза, распущенные черные волосы, яркие шали, мониста, на мужчинах – расшитые шелками жилетки, пестрые рубахи, много цепочек.
Медленно распахнулся занавес. Я, стоявшая за кулисами, не услышала привычного звона гитар, которым всегда начинался концерт. Зато услышала какой-то вроде бы незнакомый, отчаянный выкрик Вани: «Баган!» («Пойте!») И после небольшой паузы зазвучал тихий и нежный перебор гитар, а потом, тоже тихо и тоже нежно, вступил хор.
А было вот что. Наша Надежда Михайлова, рослая и статная красавица, обладающая замечательным цыганским контральто, должна была первой запеть народную веселую песню. Но, взглянув в зал, она не могла выдавить из себя ни единого звука. Перед сценой сидели не раненые люди, а какие-то обрубки, без ног, без рук, некоторые с обезображенными лицами, кто-то без глаз. Словом, это было ужасное зрелище, воистину война здесь предстала во всем своем безобразии, во всей своей безнравственности. За креслами несчастных калек стояли няни, женщины разного возраста, разных национальностей. Как потом нам рассказали – это был дом для тех искалеченных военных, которые решили не возвращаться домой. Родные получали на них похоронки и считали, что их давно уже нет на свете. Какое же надо было иметь мужество, чтобы, освобождая свои семьи от трагических последствий войны – остаться один на один со своим увечьем… Концерт они принимали с восторгом. Кто мог – аплодировал своими культяшками. Наши же актеры, кажется, никогда так не работали. Они отдавали этим беднягам всю свою душу, свою нежность, отчаянное желание хоть на минуту скрасить их жизнь! После концерта спустились в зал и не столько разговаривали, сколько просто сидели с ними и старались как-то обласкать. Зрелище было невыносимое. Всю обратную дорогу ехали молча, только женщины часто вытирали глаза. Ваня всю жизнь вспоминал концерт в госпитале. Но рассказывать о нем стал только через много лет.