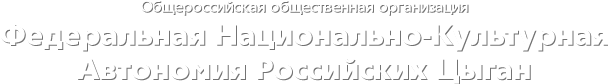Воспоминания цыган о концлагерях — 05.05.2013
Тот, кто сомневается в существовании цыганского Холокоста, пусть прочтёт эти воспоминания.
Полька Северина Шмаглевская:
«По правую сторону дороги — длинными узкими полосами тянутся многочисленные лагеря. Кто в них живёт, для кого они предназначены — неизвестно.
В одном из них видны люди. На земле, сырой даже в погожие дни, с пятнами непросыхающей грязи в колдобинах, стоят кое-как сколоченные бараки. Из-за них выглядывают цыгане в широкополых шляпах и сапогах, сохранившие атрибуты своей цыганской красоты в виде курчавых волос, чёрных усиков и трубок. У них ничего не отняли при поступлении в лагерь. Тут же — их женщины в пышных цветастых юбках, в облегающих грудь ярких корсажах, с ожерельями из бус и нанизанных на цепочки золотых монет, с тихо позвякивающими серьгами в ушах. Цыганки невероятно грязны. Вряд ли они снимают свои атласные и шёлковые наряды, укладываясь вечером рядом с мужьями, вряд ли моют свои смуглые тела и расчёсывают иссиня-чёрные волосы. Среди них бегают дети. Совсем маленькие, полуголые, в шапках чёрных волос, и побольше, нарядные, как родители. Цыгане — дети лесов и полевых дорог — народ без родины.
Пренебрегая запретами эсэсовцев, они подходят к самой проволоке, чтобы разглядеть идущих мимо женщин. Что-то громко объясняют на своём непонятном языке, о чём-то спрашивают; их выразительные лица отражают самые различные чувства».1
Элизабет Гуттенбергер:
«Я родилась в Штуттгарде в 1926 году. У меня было четверо братьев и сестёр, которые появились на свет там же. Мои родители всегда проживали в Штуттгарде. Мы жили в прекрасной части города, где много садов и парков. Мой отец зарабатывал, торгуя старинными и струнными инструментами. Мы жили в мире с нашими соседями. Никто нас не притеснял, все были дружелюбны. Когда я оглядываюсь на это время, я говорю, что это было лучшее время в моей жизни…
Моя учительница была личностью и стояла в оппозиции гитлеровскому режиму. Ей я обязана тем, что закончила восемь лет начальной школы. Если бы не это, я ни за что не уцелела бы в Аушвице, потому что без образования не попала бы в лагерную контору.
Арестовали нас в марте 1943 года. В шесть утра пришла полиция и нас посадили в грузовик. Мне было тогда 17 лет. Вместе со мной в Аушвиц были отправлены родители, четверо братьев и сестёр, трёхлетняя племянница, восьмидесятилетняя бабушка и многие другие родственники…
Когда мы подъехали к Аушвицу, наш поезд внезапно остановился. С другого направления шёл ещё один состав и остановился сбоку. Мы разглядели машиниста и моя двоюродная сестра спросила его: «Скажите, где это — что это такое Аушвиц?» Никогда не забуду глаза машиниста. Он глянул на нас и не мог сказать ни слова; он был один из тех, кого заставляли водить эти эшелоны. Он не мог сказать ничего и смотрел прямо сквозь нас. Только когда мы прибыли в Аушвиц, я поняла, почему этот человек не мог нам ответить. Казалось, будто он превратился в камень.
Первое впечатление которое я получила от Аушвица было ужасно. Когда мы прибыли, уже стемнело. Это был огромный участок земли, хотя мы видели только огни. Нам пришлось провести ночь на полу большого ангара. Рано утром нас повели в лагерь. Там нам сделали татуировки с номерами и обрезали волосы. Одежду, обувь и те немногие вещи, которые у нас ещё оставались, отобрали. Цыганский лагерь находился в секции Биркенау между мужским лагерем и отделением для больных. Там было тридцать бараков, которые назывались блоками. Один блок был отхожим местом для всего лагеря, в остальных содержалось больше двадцати тысяч цыган. У бараков не было окон, только отдушины. Пол — глиняный. В бараке, где было место только для двухсот людей держали по 800. Одно это было ужасным мучением…Вместе со многими другими женщинами меня заставили таскать тяжёлые камни на лагерный строительный участок. Мужчины строили лагерную дорогу. Даже старики, неважно — больные, или нет. Не имело значения. Все шли в дело. Моему отцу тогда был 61 год. Никто не обращал на это внимания. Ни на кого и ни на что. Аушвиц был лагерем смерти…
Первыми умерли дети. Они день и ночь кричали, прося хлеба. Вскоре всех их голод свёл в могилу. Дети, родившиеся в Аушвице вообще долго не жили. Единственное, что нацисты делали новорожденным — это надлежащие татуировки. Большинство из них умерло через несколько дней после рождения… Детей постарше, лет с десяти заставляли носить камни для лагерной дороги, несмотря на голод, от которого детишки умирали ежедневно.
Кроме того, над нами зверствовали солдаты СС. Они убивали каждый день. Нас выводили на плац рабочими группами. Эсэсовский офицер направлял свой велосипед прямо на нас. Если женщина падала, не в силах удержаться на ногах от слабости, он добивал её дубинкой. Многие от этого погибли. Надзирателя звали Кёниг.
Через полгода меня перевели работать в лагерную контору. Там я заполняла списки на транспорт, а, кроме того, мне было поручено регистрировать мужчин нашего лагеря. Я должна была вносить данные о смерти, поступающие из бараков для больных. Я внесла в книгу тысячи. Когда я находилась в конторе восьмой день, пришло известие о смерти моего отца. Я оцепенела, из глаз моих хлынули слёзы. Тут распахнулась дверь -обершарфюрер Плагге ворвался и заорал: «Почему она ревёт там в углу?» Я не могла ответить. Тут моя подруга, регистраторша Лилли Вейсс сказала: «Её отец умер». На это эсэсовец ответил: «Все мы умрём»,- и покинул контору.
Эсэсовским лагерным врачом, которому было поручено наблюдать за цыганским лагерем, был доктор Менгеле. Он был одним из самых страшных врачей в Аушвице. Кроме тех дел, которые лагерные доктора творили в Аушвице, он ставил эксперименты над умалишёнными и близнецами. Мои двоюродные сёстры были близняшками, и он сделал из них подопытных кроликов. После разных измерений и инъекций они были загазованы. Когда последних цыган отправляли в газовые камеры, все близнецы были удушены газом. По приказу Менгеле их тела препарировали перед кремацией. Он хотел узнать, насколько похожи внутренние органы близнецов. В 1944 году около двух тысяч человек, которые ещё могли работать были выведены из лагеря и погружены в вагоны. Около трёх с половиной тысяч осталось. Это были старики, дети, больные, и те, кто не годился уже для тяжёлых работ. Их, как выражались эсэсовцы, «ликвидировали» 2 августа 1944 года. Из 30.000 цыган, которые были отправлены в Освенцим, только три тысячи выжили. Я знаю эти цифры потому что работала в конторе.
Освенцим ни с чем нельзя сравнить. Когда говорят «ад Освенцима», это не преувеличение».2
***
К словам Элизабет можно добавить несколько подробностей, известных из воспоминаний других узников. Эсэсовский врач, доктор Менгеле «на работу» ходил через цыганский сектор лагеря. Едва заметив его издали, цыганские дети сбегались со всех сторон с криками: «Дядя Менгеле! Дядя Менгеле!» Вечно голодные, они облепляли его, вымаливая что-нибудь съестное. Зная о том, как он любит музыку, цыганские девочки пускались в пляс. «Растроганный» Менгеле опускал руку в карман и доставал конфеты, не забывая, впрочем, высматривать в толпе детей новые жертвы для своих опытов.
К лету 1944 года почти все маленькие узники умерли от голода и отсутствия проточной воды… Детишки, кружившиеся вокруг палача до поры не догадывались, что они танцуют танец смерти. Только Менгеле знал об этом заранее!3
Свидетели вспоминают, как он всадил огромный шприц в позвоночник пятилетнему ребёнку, собираясь взять пункцию, и сломал при этом иглу. До второго укола малыш не дожил. Четырёхлетние Гидо и Нина были сшиты «врачом» спина к спине наподобие сиамских близнецов. Раны гноились; дети плакали днём и ночью. Не в силах глядеть на это, их мать сумела раздобыть где-то морфий и ввела им смертельную дозу…4
***
Вспоминает австрийская цыганка Гермина Хорват:
«…Нам нанесли татуировки — малышам на ноги, подросткам на руки. Мой номер оказался Z-7028. Волосы нам остригли, заставили раздеться, потом полили чем-то вроде маслянистого раствора и отвели в баню. После этого нам выдали какое-то тряпьё. Я получила чёрное платье с короткими рукавами, которое доходило только до колен…
Лагерь разрастался, поэтому нас, людей из Бургенланда направили на самые тяжёлые работы. Моей сестрёнке было семь лет, но и её заставили таскать тяжёлые кирпичи. Я работала на строительстве дорог и ещё бараков. Гоняли меня и за пределы лагеря.
Когда нас уводили на работы, мой маленький братик, которому было только три года, оставался предоставленный сам себе. Если ему удавалось получить немного еды — хорошо, а если нет (что было обычно) никому до этого не было дела. Это сокрушало сердце. Никогда этот малыш не просил у мамы еды. В своём возрасте он уже понял, что мама не может ему ничего дать. Он не выжил в цыганском лагере Аушвиц-Биркенау. Детям не суждено было вырваться из этого ада, они были обречены попасть в лапы смерти.
Но не одни только дети умирали от истощения. Часами мы стояли под открытым небом, в любую погоду: в дождь и снег, на ветру и в заморозки, полураздетые. Для детей это было слишком. Они мёрли как мухи… Нас мучили. Часто нас заставляли по многу часов подпрыгивать. Нас заставляли ложиться в навоз. Дети ужасно страдали. Если в вас ещё оставалось какое-то подобие человеческих чувств, это разрушало вас изнутри. Помню один случай: молодой эсэсовец, который только что прибыл в Освенцим-Биркенау был так тронут обликом детишек, что пошёл на склад, взял немного хлеба и раздал им. Назавтра этого эсэсовца, который ещё не до конца ожесточился, уже не было. Не знаю, что с ним сталось… Ещё нам было трудно пережить то, что все эсэсовцы пялились на нас, особенно, когда мы были голые. Один обершарфюрер из восьмого блока брал женщин в любое время как ему приспичит. Мужьям и другим родственникам оставалось только отводить глаза. Ещё один эсэсовский офицер запал в мою память. Он забрал двоих цыганят потому, что они были очень талантливые и прекрасно плясали. Потом он застрелил их собственной рукой. А вообще в Биркенау были только цыгане, говорящие по-немецки. Тех, кто говорил на других языках направляли прямиком в газовые камеры. Я видела матерей из Сербии, цыганок с детьми за спиной. Они шли сразу на смерть.
Когда начался тиф, моя мать умерла. Я тоже заболела, и попала в блок-лазарет. Там мы лежали на дощатых нарах, голые, как появились на свет. На каждых нарах нас было по девять-тринадцать. На одном одеяле мы лежали, другим прикрывались — так было! Поскольку не было воды, часто случалось, что те, кого трясло в лихорадке пили мочу. Облегчались мы в плошки, и в те же плошки нам клали еду.
Когда вспыхнула эпидемия, нам стали давать сладкий чай. Поскольку питья было вообще мало, все очень хотели его получить. Мне это показалось подозрительным, потому что я точно уяснила — те, кто много выпил этого чая, назавтра распухли. Вскоре после этого все они скончались. То же самое было с таблетками, которые нам давали: принять их означало смерть.
Когда я была в бараке-лазарете, мне всё время спасал жизнь польский доктор. К несчастью я знаю только его имя, его звали Бруно. Я была знакома с его подругой, и когда та заболела, я обстирывала его. Он провёл меня через все селекции, если бы не это, меня бы загазовали. Я вовсе не выглядела здоровой, у меня была опухоль на правом бедре. С его помощью я всегда оставалась среди тех, кого оставляли в живых. Мне никогда не оправдаться в глазах тех, кого отсеяли на смерть, потому что мне выпадала удача.
В блоке 27 меня часто ставили на ночное дежурство. Я должна была дожидаться офицера СС и делать ему рапорт. Часто нам не разрешалось даже выглянуть наружу: это называлось «полная блокада»; тогда мы понимали, что снова тысячи гонят на смерть. Железнодорожные пути к крематорию шли прямо мимо нашего блока. Воздух был тяжёлый от смрада горящих тел. Крематорий был всего в двухстах-трёхстах метрах. Рядом вырыли большую яму. Оттуда вырывался огонь — в ней сжигали все вещи, которые уже были не нужны. Я была на дежурстве, и снова никому нельзя было выходить. А люди так кричали, так вопили, что я приоткрыла дверь и выглянула. Я знала, что если меня захватят за этим, то считай я мертва. То, что я увидела было так ужасно, что я потеряла сознание. Там бросали в пламя живых людей…
Мы уже прежде слышали о докторе, который собирается ставить эксперименты на женщинах, привезённых в лагерь. Поскольку я была молода, мне предстояло стать одной из них. И было нас около пятнадцати, мы стояли и ждали. Я увидела что женщины, которые выходят из блока, измучены и истекают кровью. Тут мы, вне себя от страха, побежали прочь. Никто не мог нас остановить. Вот как мы были наказаны: в течение шести недель нас заставляли стоять в ледяной воде по часу каждый день; при этом нас ещё обливали холодной водой. Вот тогда-то я и отморозила ногу.
С тех пор, как мы узнали, для чего создан Биркенау, каждая старалась вырваться отсюда. Парень, с которым я раньше встречалась, служил в вермахте, вот почему мне удалось попасть в эшелон, который шёл в Равенсбрюк».5
***
«Я провела своё детство в Дортмунде, — вспоминает Мария Петер, — и там же ходила в школу. У меня тогда было три сестры и три брата. Отец мой был скрипичный мастер, у него был свой магазинчик в Дортмунде, где он продавал или чинил музыкальные инструменты. В 1940 году мы переехали в Виттен; там я устроилась работать в почтовую контору.
Отлично помню свой арест. Было это в марте 1943 года. Никогда не забуду эту дату, 7 марта 1943. Я работала в утренней смене. В то утро мы разгружали посылки на вокзале. Когда я вернулась со станции, начальник отдела подошёл ко мне и сказал: «Фрейлейн Линд, здесь полицейский. Он велел мне передать вам, чтобы вы спустились вниз.» Я ответила: «Что от меня нужно полиции?»
Когда я спустилась по ступенькам, я увидела, что мои родители уже сидят там. И много других цыган тоже было там. Ни я, ни мама, ни другие цыгане не знали, что происходит… Всё случилось очень быстро. Внизу, у входа в почтовую контору нас ждал грузовик, покрытый брезентом. Конвой заставил нас влезть в грузовик, и нас отвезли на грузовую станцию. Там нас ждали вагоны для скота. Сотни цыган оказались перед открытыми вагонами.
В пути мы были два дня. Мы прибыли в Аушвиц в полночь. Вся наша семья была там: мои родители, мои братья Эдуард и Жозеф, отозванные из вооружённых сил, мои сёстры Антония, Жозефина и Катарина со своими мужьями и детьми…
Мы подошли к баракам, и нас загнали внутрь. Рано утром — был уже рассвет — разливали чай из больших ёмкостей. Я стала пить свой снаружи барака и увидела — это было первое из ужасов, и я никогда не забуду этого — штабель из голых мёртвых людей. Вид мертвецов так испугал меня, что я поспешила вернуться в барак.
Всех нас в Биркенау бросили на подневольные работы. Меня заставляли мостить дорожки и таскать тяжёлые камни.
У моей сестры Жозефины Стейнбах было девять детей, только один из которых умер в лагере. Я и сейчас не могу поверить, что остальные восемь детей смогли прожить до того самого момента, когда их в августе 1944 задушили газом. Моя сестра могла бы уцелеть. Но, когда её накануне ликвидации цыганского лагеря собирались увозить в Равенсбрюк, она отказалась ехать из-за детей. Она сказала эсэсовцу, что не оставит своих детей. После того, как последний эшелон покинул Аушвиц, её отправили в газовую камеру вместе с детишками.
Я очень хорошо помню эсэсовца Кёнига. Он меня порол. Он присутствовал практически на каждой казни, и встречал каждый прибывающий эшелон.
…Вошёл старший по блоку и выкрикнул мой номер. Мне пришлось идти в контору, где меня ждал эсэсовец Кёниг; он стоял, широко раздвинув ноги, заложив одну руку за мундир, и похлопывая по сапогу кожаной плёткой. Я назвала своё имя и свой номер. Кёниг подошёл ко мне и дал такую затрещину, что сбил меня с ног… Затем Кёниг отвёл меня в другой барак — я думаю, это была столярная мастерская. Он приказал мне раздеться догола и надеть мокрые мужские плавки, которые лежали в чане, наполненном какой-то чёрной жидкостью. Мне было приказано лечь на верстак и считать. Я начала считать — рассказываю, как будто это только что случилось. Я считала, и считала, а он всё порол, а я всё считала — хоть и вопила от боли. Мне казалось, что я этого не вынесу. Во время порки он сказал — и его слова я никогда в жизни не забуду: «Ты сдохнешь как негодная дрянь от моей руки!» Никогда не забуду эти слова.
Помню двух цыган, которые пытались бежать. Один был застрелен. Труп положили на самодельные носилки, покрыли куском материи с дырой в области живота. Это чтобы все видели, что его застрелили в живот. Тело носили по всем баракам, чтобы каждый видел, что ждёт тех, кто попытается бежать. Другой узник, который сделал попытку побега был повешен в тот же день.
Даже сегодня я не могу забыть то, что я пережила. Меня всё время мучают кошмары, в которых я вижу ужасы, пережитые в Освенциме. Я вскакиваю посреди ночи и меня всю трясёт. Эти жуткие сны приходят снова и снова, это часть меня, от которой мне никогда не избавиться».6
***
О попытке побега из лагеря рассказывает Лина Стейнбах, арестованная в 1941 году за гадание на улице:
«Цыганка попыталась бежать и была схвачена. Всех заставили стоять и смотреть, как её бьют и травят собаками. Потом немецкая охрана отправила её в штрафной блок и сказала заключённым, что они могут делать с ней всё что хотят, если не хотят стоять из-за неё на морозе. Некоторые из заключённых забили её до смерти».7
***
Амалии Шейх
«Наш отъезд был каким-то суматошным. Дети плакали… мы каким-то образом знали, чувствовали, что что-то должно случиться. Но что? Официально нам было объявлено: «Вам там будет хорошо».
Накануне ночью священник дал нам внеочередное причастие. Среди нас были малыши, которые вообще не понимали, что такое Святое причастие. Я спросила сестру Аврелию: «Зачем это? Сегодня ведь не воскресенье, в которое получают первое причастие, разве не так? Почему их сегодня в первый раз причащают?» Но она мне не ответила. Сейчас я думаю, что она должна была что-то знать.
Потом нас повезли на автобусе в Крайлсгейм. Мы не знали, что происходит. Никто нам ничего не говорил, ни монашки, ни полиция… В Крайлсгейме нас пересадили в фургон для арестантов. Нас было больше тридцати. К нам присоединили троих малышей из детского дома в Харбеле и беременную женщину с двумя или тремя детишками. Насколько я помню, начиная с Крайлсгейма нас конвоировали эсэсовцы.
В Дрездене мы попали под бомбёжку. Объявили воздушную тревогу. Эсэсовцы просто заперли наш фургон и сбежали. Конечно, мы ужасно боялись. Этот страх я никогда не забуду. И пока падали бомбы, наши конвоиры спасались в подземных укрытиях.
Когда мы снова тронулись с места, я стала донимать расспросами одного эсэсовца, до тех пор, пока он не ответил: «Вас везут к вашим родителям, там вам будет чудесно». Однако, беременная женщина сказала мне, что нас доставят в Аушвиц.
Через три-четыре дня мы прибыли. Внезапно дверца открылась. Напротив стояли эсэсовцы с оружием наизготовку. Когда они увидели, что перед ними дети, они опустили стволы. После того, как наши имена были переписаны, нам сделали на руке татуировки и повели в так называемый «цыганский лагерь» в Аушвице-Биркенау… Затем нас разделили. Дети старше четырнадцати остались здесь; младших отвели в барак под названием «сиротский блок». Нас заставили работать на прокладке дорог. Как только мне выдавалась возможность, я навещала младших братьев и сестру.
В начале лета 1944 года по двум мальчишкам синти из «сиротского блока» был открыт огонь возле колючей проволоки. Они всего-навсего хотели напиться воды из канавы у ограды. Один мальчик умер на месте, другой был сильно ранен. Его носили по лагерю в назидание прочим. Его кишки торчали наружу, он вопил от боли. Одному мальчику было одиннадцать, другому двенадцать лет.
В это самое время Андреас Рейнхард, который не был мне роднёй, сказал, что видел, как маленьких детей сжигали на открытом огне этой ночью. Андреас был не в себе, и едва мог говорить. Ему было пятнадцать, и его поставили «дежурным у двери» в бараке номер 16, поэтому он мог видеть, что ночью происходит снаружи. Вначале я не поверила ему, и сказала, чтобы он разбудил меня, если когда-нибудь снова увидит что-то подобное. И вот однажды ночью он разбудил меня, и через щель в воротах я увидела, как эсэсовцы бросают маленьких детишек на горящие штабеля брёвен. Это был ужас. Дети вопили, некоторые пытались выползти из пламени. На них натравливали собак, и те рвали их на куски. Не знаю, сколько детей было сожжено этой ночью. Это было слишком ужасно — слишком большой шок. На эсэсовцах была чёрная кожаная форма с черепами. Обычная охрана носила армейские мундиры. Это было в мае сорок четвёртого года, когда эшелон за эшелоном везли людей на смерть, когда газовые камеры и крематории были настолько перегружены, что детей сжигали живыми. Я удивляюсь, было ли в этих людях что-нибудь человеческое? Многие из нас не могли совладать со всем, что творилось, и «шли на проволоку». Каждое утро на колючей проволоке висело ещё несколько наших.
В конце лета 1944 года линия фронта подошла совсем близко к Освенциму, и лагерь был демонтирован. Мужчин отправили в другие лагеря рейха, женщин в лагерь Равенсбрюк. В последний раз, когда я видела своих братьев и сестру, она сказала мне: «Ты уезжаешь, а нас сожгут». Это были её последние слова для меня, и этот приговор я никогда не забуду! Я спросила доктора Менгеле, который формировал состав, могу ли я остаться с младшими братьями и сестрой? Он ответил, что я слишком взрослая для этого и должна работать. Тогда я спросила: «А что сделают с детьми из Милфингена?» Вот что он сказал — слово в слово: «Их отправят обратно в детский дом». И я даже поверила ему. Ну и куда же они поехали? Почему нацисты присвоили себе право вершить судьбы людей?..»8
***
И.П.Ковалёв рассказывает:
«Около десяти часов вечера в цыганский лагерь, находящийся от наших бараков всего в двадцати метрах, стали въезжать машины. Цыгане жили в бараках целыми семьями, с детишками, бабушками, дедушками. Мы привыкли к ним, как соседям, переговаривались через проволоку, обменивались новостями.
Жили цыгане в ещё более тяжёлых условиях, чем мы. Мизерный паёк получали не полностью: его разворовывали «старшинки» из своих же цыган. Исхудавшие детишки жалобно просили у нас через проволоку чего-нибудь поесть, и мы ежедневно прикармливали их, чем могли.
Природная жизнерадостность цыган, несмотря ни на что, прорывалась сквозь тоску и уныние: оттуда часто доносились музыка, песни…
И вот цыган увозили. Машины из бараков одна за другой направлялись в сторону крематория. Когда об этом узнали оставшиеся цыгане, лагерь огласился воплем. Этот страшный вопль обречённых на смерть был невыносим. В ту ночь в нашем бараке никто не мог заснуть.
В узкую прорезь мы видели, как подходили машины к очередному бараку. Полупьяные эсэсовцы прикладами загоняли в машину узников, хватали и бросали туда детей. Вот один седой цыган, закрыв лицо руками, сел на землю. Он не просил пощады. Он не кричал, а издавал какой-то душераздирающий стон. Эсэсовец выстрелил старику в голову и тут же с помощью другого эсэсовца бросил мёртвого в машину.
Нам в лагере много раз приходилось видеть расстрелы, повешения, и не было случая, чтобы приговорённый кричал или просил о помиловании. Он знал, что это бесполезно и мужественно принимал смерть на глазах у десятков тысяч других заключённых. Цыгане тоже не просили пощады, но они сопротивлялись, кричали.
Машины уже подъезжали к ближним баракам, расположенным рядом с проволочным заграждением. В лагере было светло как днём. Эсэсовцы врывались в бараки и гнали к машинам очередные жертвы. Запомнилась женщина с ребёнком на руках. Второй, лет шести, уцепился за её подол, стараясь не потерять мать. Она ничего не видела. Волосы её были растрёпаны, лицо искажено ужасом, рот раскрыт: она кричала, но в общем вопле её голоса не было слышно. Эсэсовец ударил женщину прикладом по голове, она упала. Смотреть дальше не было сил. Всё это происходило в двадцати пяти метрах от нас. К щелям тянулись другие заключённые, но тут же отшатывались.
На нарах, сжав кулаки в бессильной злобе, сидели мы, проклиная ненавистных палачей. Некоторых била истерика, другие застыли без движения, уставившись глазами в одну точку.
Вопли цыган не умолкали. Слышались выстрелы, лающая брань эсэсовцев и гул машин. И так всю ночь. Перед рассветом прогудела последняя машина и всё стихло.
До самого утра мы не сомкнули глаз. Михаил лежал молча. Коля прижался ко мне и тихо вздрагивал. После подъёма, выйдя из барака, каждый с ужасом глядел на лагерь цыган. Вчера там была жизнь, а сегодня пустые, с раскрытыми дверями бараки, разбросанная одежда и лужи крови. Команда заключённых под надзором эсэсовцев убирала следы злодейской расправы».9
***
Не только в Освенциме уничтожали цыган. В Берген-Белзене, Маутхаузене, Бухенвальде происходило тоже самое. Вот, например, короткий рассказ о лагере уничтожения Треблинка:
«Прибыла партия цыган из Бесарабии, человек 200 мужчин и 800 женщин и детей. Цыгане пришли пешком, за ними тянулись конные обозы; их также обманули, и пришла эта тысяча человек под конвоем всего лишь двух стражников, да и сами стражники не имели понятия, что пригнали людей на смерть. Рассказывают, что цыганки всплескивали руками от восхищения, видя красивое здание газовни, до последней минуты не догадываясь об ожидавшей их судьбе. Это особенно потешало немцев».10
***
Сохранилось свидетельство о транспортировке польских цыган из Хелм Любельский в лагерь Собибор. Б.Ставска пишет: «В ноябре 1942 года начались погромы евреев и цыган, и множество их было расстреляно на улицах. Цыган согнали на площадь, они были впереди толпы, а за ними шли евреи. Было холодно, и цыганки жалобно плакали. Они тащили всё, что имели — включая пуховики — на спинах. Но всё это у них отобрали. Евреи вели себя безропотно. Но цыгане сильно кричали — вы могли слышать один сплошной вой. Их увели на станцию и погрузили в крепкие вагоны, которые запломбировали и отогнали через станцию Хелм в Собибор, где сожгли их в печах. Я жила в доме, стоящем поблизости от железнодорожных путей, и могла видеть эти эшелоны. Под конец их даже заставляли раздеваться и увозили голыми, чтобы никто не рискнул выпрыгнуть на ходу. Иногда некоторые из этих поездов простаивали здесь по нескольку часов. Они просили пить через окошки с решётками, но никто не давал им воды, потому что их охраняли немцы, которые стреляли в людей».11
Карл Стойка из Австрии вместе с матерью, братьями и сёстрами был посажен на грузовик, входящий в длинную автоколонну и отвезён к железной дороге. В грузовиках были цыгане разных «наций»: ловари, синти, грамари.
Длинный поезд. Товарные вагоны, которые набивали битком. Они стояли, прижатые друг к другу: мужчины, старики, и женщины с маленькими детьми, красивые девушки и гордые парни; им не давали есть, им не давали пить. Эшелон тащился медленно, часто останавливаясь — на путь до концлагеря он потратил много дней. Цыгане не могли сесть, они стояли в моче и нечистотах, задыхаясь, страдая от усталости, голода и жажды.
Люди начали умирать. Вначале старики и грудные дети, потом беременные женщины.
Люди умирали в вагоне — к концу пути из восьмидесяти пяти человек скончалось тридцать пять.
Люди умирали во время дезинфекции. Когда их, уже в Освенциме, раздев догола, брили и опрыскивали ядовитым раствором, этого не вынесло ещё несколько цыганок.
Потом цыган отправили в бараки, и уже через месяц голод и ржавая вода свели в могилу девятьсот человек из тысячи…
По прибытии всем сделали на руке татуировку — букву Z, означающую принадлежность к цыганскому народу, и порядковый номер. «Мы не были уже людьми. — вспоминает Стойка, — Не были даже скотом! Мы не были растениями, или деревьями, мы были только номерами!» Вокруг была колючая проволока с током в пять тысяч вольт. Капо, вооружённые хлыстами набрасывались на беззащитных узников.
- Где был Бог? — этот вопрос десятки лет мучил тех немногих, кому удалось выжить.
«Никого у меня нет сегодня. — говорит постаревший Карл Стойка. — Иногда я говорю себе — пойду я в город к своим. Было их у меня много — двести, триста человек! Иду в город… прихожу обратно и говорю себе: «Не нашёл никого».И ответ мне: «В Аушвице они, в Биркенау — в земле». Никого здесь нету. Нет ни одного двоюродного брата, ни одного дяди, тёти; никого нет — всех убили. Никого здесь нет, все убиты. Они жили во втором районе на «Гроссе Сперлгассе». Все там жили. А сегодня иду туда, и нет там никого. И говорят люди: «Есть Бог».
Где был Бог? Там, где убивали мою родню? Всех убили, всех. Нет ни одного, нет никого. Только мы четверо: два брата и две сестры. А все остальные там: в Треблинке, Собиборе, Аушвице, Биркенау, Бухенвальде, Флоссенбурге, Маутхаузене, Лакенбахе — все там, под землёй. А те, кто здесь остался говорят: «Мы об этом не знали, мы ничего не знаем».12
***
В Югославии немцам помогали усташи. Часть цыган бежала в Италию, часть пряталась по лесам. Когда их находили, усташи даже детей рвали на куски или били до смерти. Анжела Хадорович описывает смерть своей сестры и племянницы:
«Вначале девочку заставили рыть могилу, а её мать, беременная на седьмом месяце стояла тем временем привязанная к дереву. Ей вскрыли живот ножом, достали ребёнка и бросили в канаву. Потом туда же кинули мать и девочку, только над девочкой вначале надругались. Их засыпали землёй, когда они были ещё живы».
Один табор бежал в Хорватию, пытаясь скрыться от немцев. Усташи схватили 34 человека, среди которых было много детей. После жестоких истязаний их заперли в сарае и сожгли заживо. Это видел священник из ближайшей деревни.13
***
В 1942 году в селах Кардымовка и Александровка на Смоленщине немцы зарывали цыган живыми в землю. Русских заставили выкопать две братские могилы — каждая на 200-300 человек. Закопав цыганские семьи, фашисты выставили часовых, которые три-четыре дня сторожили, чтобы никто не выбрался. Очевидцы рассказывают, что земля ходила ходуном… В живых осталась только Софья Мурачковская, которой посчастливилось вылезти на поверхность и скрыться от часовых.
***
Ян Кохановский, известный французский антрополог:
«До 1940 года, — пишет он, — жизнь в Латвии была самой чудесной. Мы наслаждались абсолютной свободой, мы могли жить и учиться, как пожелаем. Любой, кто хотел работать мог получить за свой труд достаточно, но работа не была обязательной. Каждый жил как захочется.
Затем, в 1940 году с востока явились наши «освободители». Теперь нами управляли могущественные иностранцы, и всем пришлось усвоить значение слова «партия». Со свободными дискуссиями было покончено, а я лично нажил немало неприятностей за то, что оспаривал теорию Дарвина, будучи не в состоянии признать своим прародителем гориллу или шимпанзе.
Но вообще советское правительство обращалось с нами, цыганами, неплохо, и хотя нас заставили тяжко трудиться, или учиться, мы, цыгане, были довольны этим режимом. Конечно, как и в других странах, стоимость жизни поползла вверх, и костюм, который при Республике можно было купить за 20-60 латов стал стоить после 1940 года 300-500 латов.
Когда, однако, эта власть стала вынуждать нас принять её идеологию (а политика смертоносна для свободы мысли), мы, студенты начали поглядывать на нового «освободителя». И он пришёл! — могучий, предлагающий взамен новую идею национализма. Но эта стадия не длилась долго. Новые «освободители» — фашисты — были в сто раз хуже любых средневековых тиранов — депортации и пытки стали повседневной реальностью. Все евреи были собраны в гетто, и вскоре леса под Ригой стали могилой для этих несчастных. В провинциях та же ужасная участь ожидала и цыган. Как раз перед приходом фашистов прибалтийские цыгане покинули столицу, опасаясь бомб. Из них 30-50 % так или иначе приходились мне роднёй. Они бежали в восточную Латвию. Многие латыши из этого района, как ни горько это говорить, поддержали нацистов в их стремлении избавиться как от евреев, так и от цыган. Были среди них даже такие, которые говорили: «От евреев хоть какая то польза в торговле была, а что нам давали цыгане — эти паразиты?»
Поэтому все цыгане в восточной Латвии были собраны в трёх городах: Резекне, Лудза и Виляны. В Лудзе их заперли в большой синагоге, где они сотнями умирали от голода и болезней. Мне довелось встретиться с молодой цыганочкой, все родственники которой были заключены в этом жутком месте, рыдая, она поведала обо всех этих ужасах. Я пошёл вместе с ней в Генеральный Комиссариат Остланда, резиденция которого находилась в Риге. Когда там выслушали нашу информацию, офицер только пожал плечами и объявил, что для него всё это новость, но если я настаиваю, он сделает запрос губернатору. Я согласился на это, но время шло, и я не получал никакого ответа на своё беспокойство. Человек, назначенный «шефом цыган» проявлял полное безразличие. Когда мне удалось во второй раз дозвониться до Лудзы, мне только и ответили: «Цыгане уже отправлены в лес» — у нацистов эта фраза заменяла слово «убиты». Моя бедная знакомая упала в обморок».14
***
Одно из крупнейших в Польше гетто было организовано в городе Лодзь. Хотя в основном оно предназначалось для евреев, часть квартала была огорожена колючей проволокой и окружена рвом с водой — в этом секторе содержали цыган.
Абрам Розенберг, могильщик на лодзинском кладбище, вспоминает: «Повозки с убитыми цыганами, подъезжали к нашему кладбищу… Я заметил, что почти все они измучены, и у некоторых оставались следы на шее, показывающие, что они были повешены. После определённых стараний мне удалось узнать, что каждый день крипо появлялось в гетто и приказывало цыганам вешать своих самых близких и любимых… немцы из крипо бывали при этом, включая Шаттера, Шмидта и Неймана.
Однажды утром, осенью 1942 года, где-то около 9 или 10 часов, подкатила подвода, и я вместе с другими землекопами взялся снимать контейнер с мёртвыми телами — и в этот момент мы услышали хныкающий звук. Мы невольно отскочили назад, но через секунду я приблизился и открыл ящик. Оттуда вывалилась маленькая цыганочка и упала на землю в корчах. Я разрезал ножницами верёвку, которая всё ещё была на её шее. Малышка какое-то время продолжала биться в конвульсиях, но, наконец, пришла в сознание. Мы не могли понять ни слова из того, что она говорила. Мы, землекопы, принялись было решать, как нам её спрятать, но тут подошёл начальник кладбища с начальником тюрьмы, и они приказали вернуть ребёнка в лазарет гетто. Сразу после этого они связались с крипо, которое забрало ребёнка из лазарета. На следующий день малышку привезли на кладбище, теперь уже действительно мёртвую. Она была зверски замучена. Это была маленькая девочка лет трёх или четырёх».
Цыганский лагерь в Лодзи просуществовал до января 1943 года. После этого все узники были вывезены на грузовиках и убиты. Не уцелел никто.15
- Шмаглевская Северина «Дым над Биркенау», М., 1970, стр. 132
- Memorial Book. The Gypsies at Auschwitz-Birkenau., 1992, Munchen, vol. 2, стр 1497-8
- Lagnado Lucette Matalon, Dekel Sheila Cohn «Children of the Flames: Dr. Josef Mengele and the untold story of the twins of Auschwitz», Lnd., 1991, стр. 82-4
- Говорят уцелевшие. Rrom p-o drom, XI/1994, стр. 3
- Memorial Book. The Gypsies at Auschwitz-Birkenau., 1992, Munchen, vol. 2, стр. 1510-11
- Memorial Book. The Gypsies at Auschwitz-Birkenau., 1992, Munchen, vol. 2, стр.1517-8
- Kenrick Donald, Puxon Grattan «The destiny of Europe’s gypsies» NY., 1972., стр. 181
- Memorial Book. The Gypsies at Auschwitz-Birkenau., 1992, Munchen, vol. 2, стр. 1526-7
- Ковалёв И.П. В дыму печей Биркенау, в кн. Люди, победившие смерть., Л., 1968, стр. 40-1
- Гроссман Василий, Ад Треблинки — Чёрная книга, 1980, Иерусалим, стр. 367
- Ficowski Jerzy «The Gypsies in Poland» Yugoslavia, стр. 43
- Romano Centro,Вена, 1998, стр. 98-126
- Kenrick Donald, Puxon Grattan «The destiny of Europe’s gypsies» NY., 1972., стр. 113
- JGLS (3) vol. XXV, parts 3-4, стр. 112-115
- Ficowski Jerzy «The Gypsies in Poland» Yugoslavia, стр. 43-5